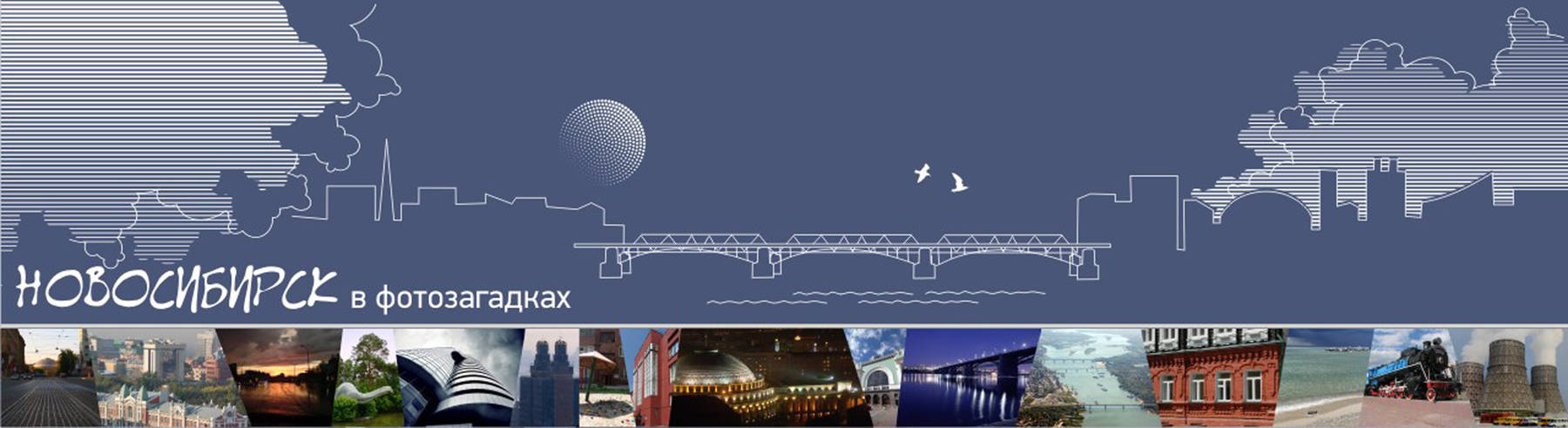/
Josephson Paul R._New Atlantis Revisited.The Siberian City of Science
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться224-03-2025 03:28:14
Джозефсон Пол(Josephson Paul R.)_New Atlantis Revisited.The Siberian City of Science_Princeton_Princeton University Press_1997_377с.
Авторские права © 1997 Издательство Принстонского университета
Опубликовано издательством Принстонского университета, 41 Уильям-стрит, Принстон, Нью-Джерси 08540 В Великобритании: Издательство Принстонского университета, Чичестер, Западный Сассекс
Все права защищены
Библиотека Конгресса США / Каталог в издании / Josephson, Paul R.
Возвращение в Новую Атлантиду: Академгородок, сибирский город науки / Пол Р. Джозефсон.
New Atlantis revisited: Akademgorodok, the Siberian city of science / Paul R. Josephson.
Published/Created
Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1997
Опубликовано/Создано
Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета, 1997. Включает библиографические ссылки (с. ) и указатель.
ISBN 0-691-04454-6 (cl : alk. paper)
1. Наука - Россия (Федерация) - Академгородок (Новосибирск) - История.
2. Россия (Федерация)-Политика и управление. I. Название.
Q127.R9J67 1997
338.947¢06-dc21 96-45577
Часть этой книги ранее была опубликована в несколько иной форме в статье «Проекты века» в советской истории: Масштабные технологии от Ленина до Горбачева",Технология и культура, том 36, нет. 3 (July 1995): 519-559, авторское право © 1995
Общества истории технологии, перепечатано с разрешения издательства Чикагского университета; и "Новая Атлантида заново: Академгородок, сибирский город науки" в книге Стивена Коткина и Дэвида Вольфа, ред: Siberia and the Russian Far East (Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe, 1995), pp. 89-107, перепечатано с разрешения M. E. Sharpe, Inc.
Эта книга была составлена в Беркли Книги издательства Принстонского университета печатаются на бескислотной бумаге и отвечают требованиям Комитета по производственным рекомендациям по долговечности книг Совета по библиотечным ресурсам
Отпечатано в Соединенных Штатах Америки издательством Princeton Academic Press
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
СОДЕРЖАНИЕ
АННОТАЦИЯ VII
АННОТАЦИЯ К ПЕРЕВОДУ ХI
ВВЕДЕНИЕ ХIII
ГЛАВА ПЕРВАЯ
От Москвы, Ленинграда и Украины до Золотой долины 3
Лаврентьев встречает Новосибирск 5
Хрущев и Академгородок 8
Город науки в Сибири 10
Эпоха низменного кирпича закончилась! 14
Советский магазин научного оборудования 21
Кадры решают все! 23
Утопия в Золотой долине 31
ГЛАВА ВТОРАЯ
Столкновение пучков и открытые ловушки 43
Атом в советской культуре 45
Дом для заблудших ускорителей в Сибири 50
Столкновение пучков 54
Охлаждение электронов и ускорение тяжелых частиц 59
Большая наука и промышленные ускорители 61
Термоядерный синтез и обещание практически Неограниченная энергия
67
Весна в Академгородке (с извинениями перед Чехословакией)
77
Сибирская физика в 1990-е годы 79
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Сибирь - страна вечно зеленых помидоров 82
Девять жизней Трофима Денисовича Лысенко 83
Генетика под землей 87
Наполеон на помощь 100
Институт цитологии и генетики: Личности и боли роста 103
Институт без стен открывает свои двери 108
Индустриализация сельского хозяйства 111
Будут ли зеленые помидоры в 1990-е годы? 116
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Машины умеют думать, а люди? 120
Советская кибернетика и компьютеры в 1950-1960-е годы 121
Компьютерная тройка Академгородка 124
Развитие ЭВМ в СССР 128
Информатизация против компьютеризации 130
Ершов приезжает в Академгородок 133
Научно-исследовательская программа Вычислительного центра, 1960-1990 138
Автоматизированные системы управления 150
Искусственный интеллект в Академгородке 153
Компьютерные науки вступают в 1990-е годы 159
ГЛАВА ПЯТАЯ
Сибирские ученые и инженеры природы 163
Сибирь перед лицом лопаты и топора 167
Бумажные фабрики и чистая вода 172
Байкал встречает бульдозер 183
Проект отвода сибирских рек 185
"Проекты века" переживают трудные времена 191
Байкал, водоотвод и развитие Сибири при Горбачеве и Ельцине 197
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Сибирский алгоритм 204
Экономическая наука от сталинской Москвы до Академгородка 205
Аганбегян приезжает в Академгородок 210
Экономика к востоку от Урала 212
Сибирские экономические исследования под руководством Аганбегяна 217
Тейлоризм заново 218
Канторович и линейное программирование в Сибири 220
Прикладные экономические исследования для развития Сибири 224
БАМ - Магистраль века 229
Социология возрождается: Татьяна Заславская в Академгородке 232
Недовольство в советской деревне 239
Новосибирский отчет 243
Рыночные отношения и политические потрясения 249
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Репрессии: Коммунистическая партия и академическая свобода
в Академгородке 263
Что, если они устроят вечеринку, а ученые придут? 265
Партком Академгородка 273
Наука и политика в Советской России 277
Инновационный пояс 281
Наука и идеология в Академгородке 289
Идеологические разборки 296
Конец академической свободы 302
ЭПИЛОГ 305
ПРИМЕЧАНИЯ 311
ИНДЕКС 343
АННОТАЦИЯ
Осенью 1989 года я впервые посетил Академгородок. В тот момент я собирал исследовательские материалы для политической и культурной истории послевоенных советских программ по атомной энергии. С первых минут моего приезда я почувствовал различия в образе жизни и трудовой этике, которые должны были отличать Академгородок от других
советских городов. Люди были более отзывчивы и открыты во всех личных контактах. В отличие от суетливой Москвы, темп жизни был медленным, на улицах не было толпы, хотя автобусы часто были переполнены. Но зато везде можно было пройти пешком по прекрасным лесным тропинкам. Разнообразие продуктов питания, одежды и других товаров в магазинах было меньше, чем в Москве, но очереди редко были такими длинными, а люди всегда более вежливыми. С огромной радостью в одном из таких магазинов я купил своему сыну беговые лыжи меньше чем за доллар, которые он использовал две зимы в Нью-Гэмпшире, пока не перерос их. Академгородок произвел на меня впечатление во всех отношениях как прекрасное место для жизни и работы. В этот первый раз я закончил предварительные исследования после слишком короткой десятидневной поездки, завершил четырехмесячное пребывание в СССР и вернулся домой.
Через несколько месяцев Питер Догерти, мой редактор в издательстве Принстонского университета, позвонил мне, чтобы узнать, не знаю ли я кого-нибудь, кто мог бы написать историю Академгородка. После нескольких месяцев обсуждения я решил, что я - тот самый человек.
Я благодарен Петру за то, что он предложил тему этой книги и позаботился о ее воплощении в жизнь.
Осенью 1991 года я вернулся в Академгородок. Мне посчастливилось работать в архивах Сибирского отделения Академии наук, в архиве Коммунистической партии Новосибирской области и в архивах нескольких институтов, которые занимают важное место в этой истории. Это Институт ядерной физики, Институт цитологии и генетики, Институт
экономики и организации промышленного производства, а также Вычислительный центр, включая личные документы ученого-компьютерщика Андрея Ершова.
Я хотел бы выразить благодарность директору Сибирского отделения Валентину Коптюгу и директорам этих институтов Владимиру Шумному (Цитология и генетика) и Анатолию Алексееву (Вычислительный центр) за предоставление открытого доступа к их институтам. Андрей Трофимук, почетный директор Института геологии и геофизики, любезно предоставил доступ к своим личным документам, касающимся озера Байкал. Борис Елепов, директор публичной библиотеки Новосибирска, предоставил в мое распоряжение ресурсы своих сотрудников и фонд библиотеки. Я также смог почитать институтскую газету Сибакадемстроя, организации, ответственной за строительство Академгородка. Татьяна Ходжер помогла мне сориентироваться в Лимнологическом институте в Иркутске, а Раиса Астафьева обеспечила беспрепятственное посещение Вычислительного центра в Академгородке.
Особую благодарность я хочу выразить своим коллегам-физикам. Александр Скринский, директор Института ядерной физики, с удивительной быстротой удовлетворял любые мои просьбы
Станислав Попов, ученый секретарь, обеспечил мне возможность работать в архиве института (и играть в баскетбол по вторникам), а Андрей Прокопенко, сотрудник иностранного отдела, облегчил мои планы по проживанию и путешествиям. Без их помощи я никогда не смог бы сделать то, что сделал за столь короткое время.
Еще важнее была помощь нескольких близких друзей в Академгородке, благодаря которым жизнь вдали от семьи прошла быстро. Физик-экспериментатор Вадим Дудников и его жена Галя помогли мне почувствовать, что у меня есть дом вдали от дома. Теоретик и специалист по физике Солнца Маргарита Руитова и ее муж Дмитрий Руитов, специалист по плазме, позаботились о том, чтобы я встретился с их коллегами и друзьями, которые могли бы рассказать мне кое-что об истории Академгородка. Экспериментатор Юрий Эйдельман и его жена Виолетта не раз делили со мной холодными ночами свой теплый дом и знания о Сибири. Физик-теоретик Виктор Фадин позаботился о том, чтобы моя первая поездка в Академгородок привела к плодотворным последующим визитам. Биолог Саша Керкис и его семья часто приглашали меня разделить с ними радость сибирской жизни. Они радушно принимали меня в своих домах, водили на рынок, на прогулки за город, даже в баню. Наталья Притвиц и Замира Ибрагимова делились со мной своими огромными знаниями по истории Академгородка и Сибири в своих письменных работах и теплых беседах. Евгений Водичев всегда старался найти свежее пиво и познакомил меня с другими историками, которые разделяли нашу любовь к Академгородку.
Несколько человек прочитали предварительные варианты глав, что помогло сделать конечный продукт лучше: Джулия Томпсон, Вадим Дудников, Игорь Головин и Евгений Шунько - глава по физике; Дебора Фицджеральд - глава по биологии; Сара Аллен, Грег Кроу и Вадим Котов - глава по информатике; Рэй Кларк и Майк Бресслер - глава по экологии; Регина Арнольд, Фрэнк Рузвельт, Сьюзен Линц и Синди Бакли - разделы главы об экономике и социологии; Линда Лубрано - глава о коммунистической партии; Евгений Водичев - комментарии к вводным главам. Зора Эссман и Лидия Кесич отшлифовали и аннотировали мои переводы стихов. Борис Мордуховский, бывший фотограф Сибакадемстроя, и Рашид Ахмеров, официальный фотограф Сибирского отделения Академии наук, предоставили фотографии для этой истории Академгородка.
Национальный фонд гуманитарных наук, Национальный совет по советским и восточноевропейским исследованиям, Совет по международным исследованиям и обменам, Факультетская исследовательская программа Фулбрайта-Хейса, Русский исследовательский центр Гарвардского университета и Институт Дибнера оказали финансовую и/или институциональную поддержку этой книге. Чарльз Констанца помогал мне в начале исследовательской работы.
Самое важное, что Кэти Фриерсон, мой коллега, друг, критик и жена, и Айзек Джозефсон, мой товарищ по спорту и сын, позволили мне оставить их в Нью-Гэмпшире, пока я уезжал в Сибирь, а по возвращении предоставили мне место для написания этой книги. Без моей семьи я не смог бы испытать огромную радость от того, что написал историю бэконовского города науки в СССР.
Я посвящаю эту книгу моей матери Лили Джозефсон и памяти моего отца Жюля Джозефсона. Они оплачивали мои уроки игры на фортепиано, подозревая, что вместо этого я тайком ходил на поле Форбс смотреть игру "Питтсбургских пиратов".Пол Р. Джозефсон
Дарем, Нью-Гэмпшир
АННОТАЦИЯ К ПЕРЕВОДУНа протяжении всей книги я использовал модифицированную версию системы перевода Библиотеки Конгресса США. В источниках я остаюсь верен этой системе, но в тексте для удобства чтения опускаю практически все мягкие и твердые знаки и диакритические знаки, особенно в именах - поэтому «Lavrentev,» а не «Lavrent’ev»; «Vasiliev,» а не «Vasil’ev», и так далее.
ВВЕДЕНИЕ
В ДЕКАБРЕ 1956 года математик Михаил Алексеевич Лаврентьев отправился в сибирский промышленный центр Новосибирск, где встретился с Т. Ф. Горбачевым, геологом и председателем Западно-Сибирского отделения Академии наук СССР. Они прошли по Золотой долине - холмистому, покрытому лесом району, расположенному в двадцати пяти милях к югу от города и в двадцати пяти сотнях миль к востоку от Москвы на западном берегу реки Обь. Они решили, что это будет прекрасное место для строительства Академгородка, сибирского города науки. Научные институты Академгородка расположились бы несколько севернее этого места. Сама Золотая долина была бы сохранена для нескольких коттеджей для ведущих ученых, нескольких фруктовых садов, связанных с биологическими исследованиями, и тропинок для пеших прогулок, беговых лыж и сбора грибов. В 1958 году в центре этого участка началось строительство Академгородка. Всего через семь лет здесь открылось пятнадцать научно-исследовательских институтов. Десятки тысяч ученых и администраторов в сопровождении своих семей начали жизнь и работу заново.
Академгородок занимает достойное место в мировой и советской истории. Провидцы давно представляли себе создание утопии, где сообщество ученых могло бы трудиться в погоне за знаниями ради знаний. Отстраненные от такого давления, как общественная ответственность, необходимость просить правительство и промышленность о финансовой поддержке или беспокойство о том, как могут быть применены плоды их исследований, ученые каким-то образом открыли бы "объективную истину" о природе. Большинство современных научных обществ в той или иной степени основываются на таком представлении о надлежащих отношениях между учеными, их работой и более широкими политическими, финансовыми и моральными вопросами, которые оказывают влияние на исследования. Для Михаила Лаврентьева вопрос заключался в том, сможет ли Академгородок когда-нибудь приблизиться к утопической мечте о науке, свободной от политических, финансовых и моральных ограничений.
С точки зрения советского опыта, Академгородок был значим как символ десталинизации, послевоенной демократизации и децентрализации научных сил, а также освоения богатых сибирских ресурсов. При Сталине наука в Москве и Ленинграде процветала за счет периферии. Действительно, в 1934 году Сталин потребовал перевести Академию наук из Ленинграда в Москву, поближе к своим недремлющим очам. В целых областях исследований доминировали отдельные люди или их институты. Это препятствовало развитию целых областей и приводило в таких случаях, как генетика, к лженауке. Чрезмерно централизованная и забюрократизированная советская экономическая система создавала свои препятствия для беспрепятственного проведения исследований. Основатели Академгородка намеревались создать научно-исследовательские институты мирового уровня, свободные от этих форм политического, идеологического и экономического давления. Академгородок также занимал видное место в истории строительства городов "на пустом месте" в России, традиция которых восходит к строительству Санкт-Петербурга Петром I в начале 1700-х годов, сопровождавшемуся основанием Императорской Российской академии наук в этом городе в 1725 году.
Большая часть перспектив Академгородка заключалась в вере собравшихся там независимых исследователей в силу рациональной науки, способной решить любую проблему, если только они смогут избежать политической и экономической неопределенности. Многие из первых ученых Академгородка были молодыми новобранцами, так называемыми детьми двадцатого съезда партии, на котором Хрущев дал старт десталинизационной оттепели. В Академгородке царила гласность, или открытость, которая предвосхитила ту, что развивалась при Горбачеве десятилетия спустя. Корнями этой открытости были географическая и психологическая удаленность города от Москвы и культура неформального обмена идеями, явно задуманная основателями Академгородка для стимулирования творческого импульса среди исследователей. Открытость распространялась по коридорам научно-исследовательских институтов на недавно созданные социальные клубы и кафе, о существовании которых в других странах советской империи практически ничего не было слышно. Здесь ученые говорили о своих исследованиях на передовом рубеже науки, а также читали стихи, посещали художественные выставки и слушали странствующих бардов. Такой открытости способствовало расположение Академгородка вдали от Москвы, центрального партийного аппарата и жесткого идеологического контроля. В научном городе была своя партийная организация, которая не была столь бдительной, как предполагалось в Москве, особенно на уровне первичных партийных организаций в институтах.
Сибирские ученые принимали интеллектуальную свободу как данность, осваивая ранее закрытые для них области. Прежние ограничения могли быть результатом философских запретов из-за предполагаемого идеализма той или иной области или политической централизации, которая препятствовала новым исследованиям. Ученые Академгородка открыли для новых исследований физику, биологию, социологию, экономику и информатику. Физик Герш Будкер использовал новые методы ускорения пучков для достижения невероятных мощностей в физике высоких энергий. Другие физики добились впечатляющих результатов в исследованиях альтернативного термоядерного синтеза. Ученые использовали исследования в области животноводства и гибридизации растений, чтобы начать исследования в области генетики еще до осуждения Т. Д. Лысенко в 1965 году. Татьяна Заславская освободила советскую социологию от все более метафизических марксистских концепций класса и общества, чтобы изучить трудовую миграцию и неудовлетворенность работников - исследования, которые показали, что в советской деревне не все в порядке. В экономике Абель Аганбегян ускорил возрождение интереса к линейному программированию и научному управлению трудом. В области информатики и вычислительной техники будущий президент Академии наук Гурий Марчук и Алексей Ляпунов, среди прочих, боролись за преодоление сопротивления кибернетике в СССР. Отчасти благодаря относительно открытой атмосфере они в короткие сроки добились значительных результатов в этих областях. Темпы и масштабы развития этих дисциплин быстро стали отличаться от других отраслей советского научного истеблишмента.
Однако утопические планы этих ученых и руководителей Коммунистической партии по созданию научного города стали жертвой тех же препятствий, которые были характерны для советской науки в целом. Идеологические конструкции, политические соображения и экономическая неопределенность мешали основателям Академгородка создать уникальное научное сообщество в западносибирских лесах. Это сообщество ученых так и не смогло полностью избавиться от ограничений, налагаемых централизованной командной экономикой и партийным аппаратом, который в брежневские годы становился все более консервативным и идеологически бдительным. Как и в других обществах, власть кошелька всегда формирует лицо исследований, и СССР ничем не отличался от них, поскольку государство давило на ученых, заставляя их отказаться от фундаментальной науки во имя ответственности за экономическое развитие Сибири.
Местные и региональные партийные чиновники стали бояться автономии ученых, да и вообще любой группы интересов. Они с недоверием относились к западной науке и сопутствующим ей идеологическим установкам, которые, казалось, все больше утверждались в некоторых областях. В этих условиях Академгородок оставался научной утопией лишь до 1968 года, когда в ответ на инцидент с подписями, фестивалем бардов и вторжением в Чехословакию коммунистическая партия обрушила свой гнев на научное сообщество. Подписавшие письмо вывели открытость Академгородка за пределы, допустимые партийным аппаратом, подписав письмо с протестом против нарушения режимом международных стандартов прав человека при преследовании диссидентов. Фестиваль бардов, популярный как среди молодежи, так и среди стариков, поощрял откровенную сатиру на советские политические институты. Вторжение в Чехословакию сопровождалось общенациональным подавлением инакомыслия в СССР.
Тем не менее в Академгородке возникла уникальная сибирская наука. Она была сибирской с точки зрения кадров, ведь многие молодые сотрудники приехали из Сибири и со временем стали директорами лабораторий. Сибирской она была и в плане новых исследовательских подходов. Помимо освоения ранее закрытых областей знаний, ученые Академгородка принимали непосредственное участие в изучении природных ресурсов Сибири. В некоторых случаях это заставляло их публично выступать против политики Москвы в области экономического развития и участвовать в зарождающемся советском экологическом движении за сохранение озера Байкал и срыв дорогостоящего и нерационального проекта по переброске стока сибирских рек в Среднюю Азию. Наконец, Академгородок был сибирским даже по своей новой архитектуре и планировке города.
СОВЕТСКАЯ НОВАЯ АТЛАНТИДА
В 1608 году, в первые годы научной революции, сэр Фрэнсис Бэкон, британский государственный деятель, ученый и философ, отец современного индуктивного метода рассуждения, написал книгу "Новая Атлантида". Новая Атлантида", одна из главных утопий западной литературы, описывала деятельность Дома Саломона, ученого общества и научного города, послужившего образцом для Британского королевского общества. В Доме Саломона ученые искали знания о природе и власть над ней, используя лаборатории с современным оборудованием, приборы и библиотеки для облегчения исследований. Целью этого научного центра было "познание причин и тайных движений вещей, а также расширение границ человеческой империи для осуществления всего возможного".1 Для Бэкона, как и для его современников и многих социальных мыслителей впоследствии, "наука" означала получение объективных знаний о природе для улучшения положения человека. Академгородок также был призван использовать природные ресурсы Сибири для экономического развития. Многие из его основных задач были связаны с каталогизацией и изучением местной флоры и фауны, составлением карт и разработкой полезных ископаемых, древесины, водных и других природных ресурсов.
Академгородок был не только продуктом бэконовской научной традиции, но и логическим результатом десятилетий советского политического, экономического и идеологического развития. Накануне русской революции биогеофизик В. И. Вернадский, драматург Максим Горький и другие выдвигали идеи создания чего-то подобного Дому Саломона, чтобы поднять культурный уровень России и ввести отсталую страну в ХХ век как индустриальную и технологическую державу. На протяжении всей советской истории ведущие представители партии, хозяйственные плановики и представители научной интеллигенции надеялись построить социализм на основе науки и техники. Ученые откроют секреты природы, советское государство овладеет ими и в процессе построит современную индустриальную державу. Как и в Доме Саломона, успех Академгородка в достижении этих целей был обеспечен рядом архитектурных, организационных и научных инноваций. Его архитектура должна была включать стили, сочетающиеся с красотой сибирских сосновых лесов, а простор - способствовать открытости в личных и научных обменах. Организационные инновации должны были способствовать развитию симбиотических отношений между наукой, образованием и промышленностью, что не удалось реализовать в других странах послевоенного СССР. Научные инновации касались совершенно новых областей и методологических подходов.
Условия были благоприятными для этого начинания. Во-первых, в стране существовала широкая поддержка расширения науки как части "культа науки". Этот культ был инициирован послевоенными успехами в исследованиях и разработках ядерного оружия, закреплен достижениями в мирном использовании атомной энергии и освоении космоса, а также являлся частью общей обстановки десталинизации. Это стало плодородной почвой для принятия науки и техники в качестве панацеи от советских экономических, политических и социальных проблем. Хотя идеология и политика в конечном итоге помешали нормальной работе Академгородка, они сыграли решающую роль в его успехе на стадии планирования. Чиновники рассматривали современную науку и технологии как ключ к построению коммунизма и превзойти экономическое производство капиталистического мира.
Город науки был важен и со стратегической точки зрения. Огромные людские и капитальные затраты, связанные с нацистским вторжением и оккупацией во время Второй мировой войны, подчеркивали важность освоения сибирских богатств вдали от европейских границ России, к востоку от естественного географического барьера - Уральских гор. Академгородку предстояло реализовать лозунг, провозглашенный в 1920-е годы, - "Наука - провинции!". Однако для того, чтобы стать не просто лозунгом, силы регионализма, открытости и свободы должны были противостоять силам централизации в советской экономической и политической системе.
В-третьих, чиновники считали, что Академгородок будет способствовать возрождению советской науки. Со времен революции научное сообщество добилось значительных успехов в плане числа исследователей, институтов, публикаций и других количественных показателей. Во время правления Хрущева темпы роста каждой из этих категорий быстро увеличились. И всегда можно было вспомнить об успехах в космосе или атомной энергетике. К сожалению, с качественной точки зрения советская наука отставала. По таким показателям, как Нобелевские премии и научное цитирование, или по более субъективным рейтингам, таким как оценки западных коллег советских ученых, советская наука не была столь успешной. Во многих областях биологии, химии, новой области компьютеров, как в фундаментальных, так и в прикладных, советская наука буксовала, и, несмотря на советские заявления, перспективы коммунизма казались далекими. Кроме того, советская экономика весьма неохотно внедряла достижения научных исследований и разработок в производственный процесс. Вопрос заключался в том, как лучше соединить преимущества советской системы с мощью науки, чтобы ускорить экономическое развитие, повысить социальное благосостояние и составить конкуренцию капитализму.
И ученые, и чиновники верили, что Академгородок, как до него Спутник и атомная энергетика, станет символом неотъемлемых преимуществ советского общественного строя перед капиталистическим и не сможет не способствовать повышению эффективности советской науки.
Проект создания наукограда вполне логично нашел большой отклик в этой среде. Научные и политические власти провели широкую кампанию в прессе, объявив о планах строительства Академгородка и рапортуя о каждом последующем успехе. Ведущие чиновники Академии наук СССР кричали о своем одобрении. Ученые, сопровождавшие Лаврентьева в Сибирь, понимали неопределенность будущего Академгородка, но мечтали о его безграничных перспективах и отдавали городу свои научные и организаторские таланты. Молодые коммунисты толпами записывались на строительство. Подающие надежды студенты стекались в только что открывшиеся институты, чтобы начать научную карьеру. Академгородок получил решающее одобрение самого генерального секретаря Коммунистической партии Никиты Сергеевича Хрущева, который распорядился, чтобы Лаврентьеву была оказана полная поддержка со стороны новосибирских плановиков и политиков.
Однако в конце концов свобода, которой пользовались ученые, оказалась под ударом со стороны коммунистической партии. После того как Брежнев сменил Хрущева, центральный партийный аппарат становился все более консервативным. В рамках общей идеологической борьбы со всеми видами литературных, художественных и политических свобод, достигнутых в период десталинизации, партия развернула кампанию против автономии ученых в вопросах исследований. Она требовала преданности идеологическим заповедям брежневской эпохи. В отношении науки эти заповеди включали предостережения от "запятнанности" западной научной или философской мыслью, а также требование приоритета прикладной науки над фундаментальными исследованиями. Партия предписывала ученым Академгородка сосредоточиться на большой науке - развитии экономики Сибири.
Чиновники местного и регионального партийного аппарата использовали эти перестановки в Москве, чтобы добиться изменений на местном уровне. Эти чиновники давно завидовали благосклонности высшего партийного руководства, которым пользовался Лаврентьев, включая его личное знакомство с Хрущевым и индивидуальный пропуск в Кремль. Их также возмущал исключительный доступ Академгородка к товарам и услугам, а также интеллектуальная свобода ученых. Для "администрирования" науки были привлечены безликие бюрократы, которые раньше "поддерживали" ее развитие. Долгосрочные проблемы с поставками оборудования и нехватка финансовой поддержки все больше сдерживали усилия по реализации новых программ. После советского вторжения в Чехословакию в 1968 году партийный аппарат бдительно искоренял предполагаемые идеологические отклонения. Началось естественное старение молодого, энергичного и талантливого научного населения. В итоге партийные чиновники закрыли общественные клубы - символы открытости Академгородка. Вся его атмосфера была перекрашена в серые, монотонные тона, лишенные той оригинальности, которая отличала научную мысль в первое десятилетие существования города. И дни славы бурного строительства, научных достижений и интеллектуальной свободы подошли к концу.
Отредактировано alippa (24-03-2025 03:32:20)
Поделиться424-03-2025 09:31:42
alippa
третье сообщение в теме почему-то не отображается совсем.
Там ссылка на скачивание документа целиком?
Поделиться524-03-2025 10:15:13
Там ссылка на скачивание документа целиком?
Там ссылка на Ютуб https://www.youtube.com/watch?v=mguyC5li1T8
Поделиться624-03-2025 16:32:55
alippa
третье сообщение в теме почему-то не отображается совсем.
Там ссылка на скачивание документа целиком?
ссылка на скачивание документа появится очень не скоро, увы, но моя скорость перевода страниц 5-6 в день в лучшем случае
Поделиться724-03-2025 16:57:46
SiberiaAkademgorodok_ru.pdf
Перевод от ИИ и оригинал.
Поделиться824-03-2025 17:21:34
и оригинал.
огромное количество оригиналов и все без иллюстраций. Нашел на амазоне обложку, а вот иллюстрации - тщетно. Может все-таки на "Архиве" они есть, но мне не дает, тольок пару тсраничек превью. Хоть у меня там есть аккаунт, но увы((((
Поделиться924-03-2025 17:55:27
огромное количество оригиналов и все без иллюстраций. Нашел на амазоне обложку, а вот иллюстрации - тщетно. Может все-таки на "Архиве" они есть, но мне не дает, тольок пару тсраничек превью. Хоть у меня там есть аккаунт, но увы((((
Я когда год назад читал эту книгу в ГПНТБ, то сделал три снимка. Не ожидал что они пригодятся. Буду иметь ввиду.
Делюсь всем что есть:


Поделиться1124-03-2025 18:22:00
Я когда год назад читал эту книгу в ГПНТБ, то сделал три снимка. Не ожидал что они пригодятся. Буду иметь ввиду.
Делюсь всем что есть
спасибо, пригодится обязательно
Поделиться1224-03-2025 18:23:49
Имейте ввиду что в книге есть ошибки в датах и фактах.
Например:
Высоцкий и Окуджава не пели на фестивале бардов в ДК "Москва".
ЖД возле пляжа не переносили.
Здание института Гидродинамики строили 1957-1959, а не 1959-1964
Об ошибках можно будет сказать только в примечаниях. Текст изменять нельзя.
Поделиться1324-03-2025 18:25:25
Текст изменять нельзя.
Конечно. Полностью согласен. Просто заранее говорю.