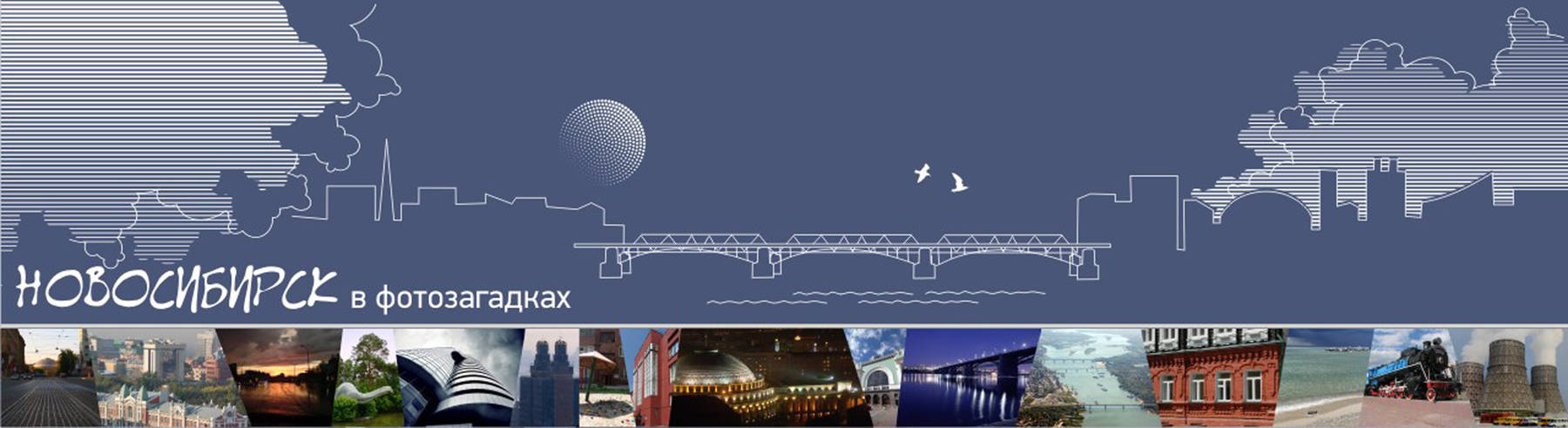/
Потанин Григорий Николаевич (1835-1920)
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться203-10-2025 17:03:56
Большой сибирский дедушка
.
190 лет Григорию Потанину
.
Автор: Андрей Филимонов.
.
21 сентября [3 октября] 1835 года в посёлке Ямышевском на берегу Иртыша родился Григорий Потанин — писатель и путешественник, диссидент и политзаключённый, почётный председатель Сибирской областной Думы в 1917 году и просто человек-легенда.
.
Его отец, Николай Потанин, происходил из старосибирского казачьего рода и оставил свой след в литературе. «Записки о Коканском ханстве хорунжего Н. И. Потанина» были опубликованы в одном из номеров «Военного журнала» за 1831 год. Написанные живым языком, эти путевые заметки неоднократно переиздавались в «Вестнике Российского географического общества».
.
«Однажды [в Ташкенте] поехал я к одному знакомому моему татарину и, проезжая мимо разрушающейся мечети, увидел толпу народа, посреди которого стояла под покрывалом рыдающая женщина. Она была обличена своим мужем в неверности и представлена им на суд, который приговорил сбросить её с мечети. Несчастную жертву слабости и страстей человеческих ввели на самый верх мечети и столкнули. Сердце моё облилось кровью при взгляде на обезображенный труп её, и я тотчас удалился от этого плачевного и вместе с тем ужасного позорища». (Записки хорунжего Николая Потанина)
.
Однако ни литературная, ни военная карьера у Потанина-старшего не заладилась. Когда его сыну было три года, он крепко поссорился с сослуживцем, превысившим, как считал Николай Ильич, свои полномочия. Вышла грубая сцена на открытом воздухе. Спор перешёл в драку, на помощь офицерам прибежали казаки, кто-то выстрелил из ружья. В результате начальство завело дело о бунте с применением огнестрельного оружия. Хотя оба драчуна были хороши, все шишки посыпались на Николая Потанина. Он попал под суд, истратил табуны доставшихся ему в наследство лошадей на взятки чиновникам, но всё равно был разжалован в рядовые.
.
Не выдержав переживаний, умерла от нервной горячки его жена, и пятилетний Григорий превратился из богатого наследника в бедного сироту, которого пристраивали то к одним, то к другим родственникам.
.
Сначала мальчик жил у тётки Меланьи, отцовской сестры. В этом доме ему запомнились рабыни-киргизки, которых купил ещё его дед, Илья Потанин, во время большого голода в степи, когда киргизы обменивали своих детей на муку. «Таким образом, мой дед сделался рабовладельцем», — пишет Григорий Потанин. Девочек крестили, снабдив христианскими именами — Вера и Авдотья.
.
«Печальная участь постигла обеих, особенно Авдотью. Мелания Ильинишна не любила девочку и беспрестанно её била. Я был свидетелем тяжёлых сцен. Мелания Ильинишна гонялась за несчастной девочкой с ухватом или сковородником с криком: «Убью!», а Авдотья с плачем металась по избе, стараясь спрятаться под лавку или кровать. По разбитому её лицу текла кровь. Она вечно ходила в коростах. Однажды она показала голову; под волосами у ней не было неразбитого места. Она была тщедушная и, вероятно, загнанная побоями в чахотку, умерла от этой болезни вскоре после того, как меня увезли из Пресновска в Омск. Участь Верочки была легче. Отец мой вывез её в Омск, и она вышла замуж за солдата, но счастлива тоже не была. Сколько было таких загубленных жизней в Западной Сибири!»
.
Из дома Меланьи Григорий попал в более интеллигентное семейство полковника Эллизена, где имелась неплохая для Степного края библиотека. Он вспоминал, что в полковнице «билась жилка пропаганды». Она привозила из Омска новые книги и собирала у себя по вечерам местных дам, чтобы вслух читать модную беллетристику, в том числе Гоголя. Автор «Тараса Бульбы» был самым популярным писателем среди омского (да, наверное, и всего сибирского) казачества. Кадеты военного училища, которое впоследствии закончит Григорий Николаевич, знали эту повесть наизусть и выбирали себе прозвища по именам её героев.
.
Сам полковник, не читавший ничего, кроме устава гарнизонной службы и поваренной книги, очень любил цветы и приходил в восторг от вида цветущей степи, которая весной напоминала огромный пёстрый ковёр. В июле начинался купальный сезон и семейство Эллизенов отправлялось «на воды», то есть на берега реки Ишим. В этих поездках Григорий понемногу учился составлять гербарии, как тогда говорили — ботанизировать.
.
Путешественники и шпионы
.
С годами увлечение ботаникой становилось всё более профессиональным и, уже выпустившись из военного училища, молодой хорунжий показал свои гербарии проезжавшему через Омск путешественнику и географу Петру Семёнову, который сыграл в судьбе Потанина очень важную роль. Пётр Петрович тогда ещё не посетил Тянь-Шань, от которого он полвека спустя получит вторую половину своей фамилии, но был уже довольно известным исследователем, членом Русского географического общества и учеником немецкого натуралиста Александра фон Гумбольдта, прозванного современниками «Аристотелем XIX века».
.
В Омске Семёнов обратил внимание на двух способных юношей — Григория Потанина и его друга Чокана Валиханова, чингизида-интеллектуала из степной казахской аристократии.
.
По старинной традиции, все путешественники были немного шпионами, и Географическое общество исполняло также функции разведывательного ведомства. Семёнов «завербовал» Валиханова, который, по его рекомендации, отправился в Кашгарию (на северо-западе Китая) под именем купца Алимбая и доставил российскому правительству важные сведения об этой территории, куда не было входа европейцам. Вместе с образцами местной флоры и чертежами китайских приграничных крепостей Валиханов привёз голову своего менее удачливого коллеги, немецкого путешественника Адольфа Шлагинтвайнта, казнённого по приказу правителя Кашгарии Вали Хана.
.
Потанину Семёнов дал совет бросать военную службу и поступать в университет. Но для этого молодому офицеру надо было выписаться из казачества. «Казаки — это крепостные государства. Казачий офицер должен был в то время служить бессменно 25 лет; положение их было жалкое», — вспоминал Потанин.
.
Два года ему пришлось искать доктора, который нашёл бы у него какой-нибудь недуг, делающий его негодным к верховой езде — человеком второго сорта, с точки зрения настоящего казака. На военной службе он успел принять участие в основании города-крепости Верный, нынешнего Алматы. Со своим отрядом Потанин вышел из Семипалатинска в 1852 году и углубился на территорию, ещё не принадлежавшую России. По его воспоминаниям, «поход имел вид приятной прогулки». Стрелять почти не пришлось. Потанин не любил драматизировать события своей жизни и совершенно искренне не видел в ней ничего особенного. Даже церемонию собственной гражданской казни в 1868 году он описывал как весьма скучное мероприятие при плохой погоде.
.
«Так как время было раннее, то вокруг эшафота моря голов не образовалось; публика стояла только в три ряда». Григорий Потанин. Воспоминания
.
Общественные взгляды Потанина сформировались под воздействием журнала «Современник», который он читал при каждой возможности. Основанный Пушкиным, журнал переживал в середине XIX века свой новый расцвет. Его возглавляли Некрасов, Чернышевский и Добролюбов, старавшиеся каждый следующий номер сделать смелее предыдущего.
.
Этот процесс сильно ускорился после скоропостижной кончины императора Николая Первого, то ли отравившегося, то ли нарочно простудившегося на параде. В любом случае, Крымская война была Россией проиграна, и Николай на смертном одре произнёс слова «сдаю державу не в порядке», чем укрепил своего наследника в мысли о необходимости реформировать страну.
.
Вступив на престол, Александр Второй занялся лечением самого больного вопроса Российской империи — крепостного права. В декабре 1858 года молодой император утвердил программу крестьянской реформы. Несколько месяцев спустя омский атаман разрешил войсковому врачу найти у Потанина спинную грыжу.
.
Из Томска в Петербург на ящике с золотом
.
«Новые времена принесли новые страсти. Так как отец ничего не мог дать, Ваныкин вспомнил, что у него есть родственник в тайге, женатый на вдове его дяди, родного брата отца Ваныкина. Он решился явиться в тайгу без предупреждения. Он рассчитал прослужить в тайге лето и на заработанные деньги отправиться в университет».
.
Это строки из повести Григория Потанина «Тайжане», в которой он вывел самого себя под именем Ваныкина.
.
В Томской губернии тогда свирепствовала золотая лихорадка. Люди головокружительно богатели и стремительно разорялись. Дядя Григория, Дмитрий Ильич Потанин, был женат на сестре томского золотопромышленника Философа Горохова, который 10 лет умудрялся поддерживать среди своих кредиторов репутацию мультимиллионера. Он выстроил в центре города особняк с роскошным садом и библиотекой из сотен томов с золотым тиснением. Когда кредиторы наконец выяснили, что гороховские векселя не имеют обеспечения, и судебные приставы описали имущество Философа Александровича, оказалось, что его «библиотека» такая же фикция, как и его «ценные бумаги» — книжные корешки были наклеены на деревянные доски. Дядюшке Дмитрию тоже была не судьба разбогатеть в томской тайге. Когда племянник действительно явился туда без предупреждения, то застал катастрофу. Содержание золотого песка на участке, купленном дядей, оказалось гораздо ниже, чем обещали недобросовестные продавцы. Единственное, что смог дать племяннику Дмитрий Ильич — рекомендательное письмо к анархисту Михаилу Бакунину, отбывавшему в Томске ссылку и женившемуся на дочери более успешного золотопромышленника Ксаверия Квятковского, у которого с бизнесом было всё в порядке.
.
Бакунин любезно принял Потанина в своём особняке на Воскресенской горе. Прибывший из тайги, покусанный комарами юноша пылко заявил, что ради знаний готов отправиться в Петербург пешком, как новый Ломоносов.
.
— Эти глупости вы, положим, бросьте, — ответил анархист, закуривая «Манилу». — У меня есть идея получше.
.
Он снабдил Григория письмом к своим столичным родственникам, где рекомендовал его как «сибирского донкихота» и пристроил пассажиром в караван своего тестя, состоявший из нескольких повозок с вооружённой охраной, который добирался от Томска до столицы за пару месяцев. «На дне каждой повозки был прикован прочный ящик со слитками золота, поверх которого было место и для пассажиров», — вспоминал Потанин. Денег у него по-прежнему не было, зато несколько недель он буквально спал на золоте.
.
Бакунин вспомнил об их встрече десять лет спустя, когда в Лондон, куда он бежал из ссылки, дошли вести об аресте Григория Николаевича за попытку «отделить Сибирь от России».
.
«Что известно вам о Потанине и об открытом сибирском заговоре? Потанина я не только знал лично, но был, можно сказать, его создателем, или вернее открывателем. — Я освободил его из-под казачьего ярма и отправил его в Петербург. С пошлою наружностью, это необыкновенно умный, честный и энергичный молодой человек, — деятель без устали, без тщеславия, без фраз. Жаль его, если он погибнет… а кажется, что также погибнет…» — писал Бакунин Герцену в 1865 году.
.
К счастью, анархист ошибся. Потанин не только не погиб, но и прославился благодаря этому «делу». Идеи, за которые его арестовали, предали гражданской казни и отправили на каторгу, он почерпнул в Петербурге.
.
Сибирь как колония
.
В начале правления царя-освободителя сразу два талантливых столичных историка, Николай Костомаров и Афанасий Щапов, пропагандировали федерализм как наилучшую форму устройства России. Выпускник Харьковского университета Костомаров уже отсидел за свои взгляды при Николае Первом. А сибиряку Щапову ещё предстояло в 1865-м вместе с Потаниным стать фигурантом дела «об отделении Сибири». Сторонники федерализма любили приводить в качестве удачного примера Соединённые Штаты Америки. «Умы молодых сибиряков были почвой, на которой семена этой идеи должны были хорошо приняться», — писал Потанин.
.
В Петербурге студенты-сибиряки жили бедно, снимали одну комнату на несколько человек. Питались щами и квасом, а роль десерта играли сдобные калачи. Когда на втором курсе Григорию потребовался ботанический атлас за 25 рублей — калачи на полгода были исключены из его меню.
.
Впрочем, тема еды Потанина никогда не волновала. Главным было то, что он оказался в самой гуще интеллектуальной жизни страны, в один из светлых моментов её истории. Петербург бурлил и полемизировал по каждому поводу. В частности, по вопросу о колониях.
.
«Член учёного общества Мейендорф (управляющий кабинетом Его Величества) высказал убеждение, что меры, предпринимаемые правительством для более густого заселения Сибири, для насаждения в ней гражданственности и просвещения, угрожают государству опасностью в будущем; если колония разовьёт свои умственные и материальные силы, в ней появится стремление к отделению от России. Мейендорфу возражал академик Бэр; он сказал, что отделение земледельческих колоний от метрополий естественное историческое явление и что в этом нет никакой беды ни для колоний, ни для метрополий. Великий князь Константин поспешил затушевать остроту возражений; по его мнению, Сибирь совсем не колония, это только расширение государственной территории». Г. Н. Потанин «Областническая тенденция в Сибири»
.
В сибирском землячестве петербуржского университета многие были несогласны с мнением великого князя. Студент из Омска, Николай Ядринцев, даже принял участие в редактуре лихо написанного либеральным иркутским купцом Поповым воззвания «К патриотам Сибири».
.
«Идёмте же! Не страшитесь ни пыток, ни казни, на святое дело освобождения, с криком да здравствует Независимость Сибири!» — призывали сибиряков анонимные авторы. Это был типичный столичный памфлет того времени, сочинение в стиле «к топору зовите Русь». Попов тогда жил в Петербурге, вращался в кругах революционно-сатирического журнала «Искра», где и познакомился с Ядринцевым. В Сибири их воззвание немногие успели прочитать — жандармы сработали оперативно. Волна арестов покатилась из Омска в Томск, Красноярск, Иркутск. Арестованных учителей, журналистов и других представителей немногочисленной сибирской интеллигенции свозили на омскую гауптвахту, где многие просидели три года.
.
К тому времени Потанин не по своей воле закончил отношения со столичным университетом. После студенческих волнений 1862 года университет был временно закрыт, а самых активных и подозрительных (среди них оказался и вольнослушатель Григорий) заперли в Петропавловской крепости примерно на месяц. Освободившись, Потанин узнал, что восстановление в альма-матер ему не светит, и начал искать работу, которой в Петербурге для него не нашлось. Знакомые подсказали ехать в Томск, где требовался работящий и способный чиновник в канцелярию губернатора Германа Лерхе, одного из самых скандальных персонажей в истории Томской губернии. Полицмейстером при нём служил некто Сержпинский, бывший содержатель публичного дома. На новой работе начальник полиции не отказался от старых привычек и поставлял Лерхе молоденьких барышень, поскольку губернатор был страстным любителем «клубнички».
.
Приняв предложение губернатора-эротомана занять место в Статистическом комитете, а заодно редактировать неофициальный раздел газеты «Томские губернские ведомости», Потанин погрузился в работу. У него появилась своя «любовная история». После Петербурга он осознал, что главным увлечением его жизни является Сибирь, её прошлое, настоящее и будущее. По воспоминаниям Потанина, тогда считалось «крамольным» употреблять в разговоре, а тем более в печати, выражения «наша Сибирь», «мы сибиряки», то есть выделять себя из общего отечества. Любить Россию по частям запрещалось. Нужно было любить её всю, от Финляндии до Аляски. Но молодые люди, собиравшиеся у Григория Николаевича на журфиксы, крамольно считали, что Россия — это абстракция, в реальности состоящая из отдельных областей. Отсюда и произошло название их теории — областничество. «Пусть каждая область зажжёт своё солнце, и вся земля будет иллюминирована», — заявлял Потанин. За это их с Ядринцевым и взяли в 1865 году.
.
Полицмейстер Сержпинский арестовал друзей по личному распоряжению губернатора. Дело озаглавили громко: «О злоумышленниках, возымевших намерение отделить Сибирь от России и основать в ней республику на манер Северо-Американских Штатов». В награду за раскрытие «заговора» Лерхе потребовал от городской думы Томска признать его почётным гражданином, что и было исполнено. Правда, через два года Германа Густавовича всё равно турнули из губернаторов за чрезмерное донжуанство.
.
Следствие в Омске тянулось долго и скучно. Следователи пытались найти столичный след, ведущий к заграничному центру принятия решений. Но ничего не получалось просто потому, что омские жандармы не там искали. Ровно в эти три года, пока они высасывали из пальца «сибирский сепаратизм», от России действительно был отделён изрядный кусок территории, переданный Соединённым Штатам Америки за вознаграждение в 7 миллионов долларов. Во главе организованной группы, провернувшей выгодное дельце, стоял император Александр Второй, которому за это ничего не было.
.
А вот Потанина приговорили к 15 годам каторги, как организатора заговора. Он добродушно и благородно брал на себя всю вину, ни от чего не отказываясь. Среди прочего, он «признался» в авторстве воззвания «К патриотам Сибири», с текстом которого впервые ознакомился в кабинете следователя.
.
Изменял Сибири с Монголией
.
После приговора, поражавшего своей жестокостью, «сепаратист» Потанин был отправлен отбывать каторжный срок в крепости Свеаборг, на берегу Ботнического залива, в Великом княжестве Финляндском. Заключённые там носили кандалы не снимая. Поэтому важным навыком, которому обучался каждый новичок, было умение одеваться, продевая руки с цепями в рукава тюремного балахона.
.
Начальство симпатизировало интеллигентному узнику из Сибири и не могло понять, за что приговорили к 15 годам этого безобидного ботаника. Командир арестной роты майор Ясинский при первой возможности представил Григория Николаевича к сокращению срока каторги, объявив его «решительно исправляющимся». В 1871 году Потанин вышел из крепости по царскому манифесту. Полную амнистию ему дали только три года спустя благодаря ходатайству Петра Семёнова (ещё не Тянь-Шанского).
.
Эти три года Потанин провёл в вологодской ссылке, в городе Никольске, больше похожем на деревню, где встретил свою будущую жену Александру Лаврскую, дочь священника, сестру революционера. Она приехала навестить брата, сосланного в эту глухомань, и обнаружила в его комнате человека, заросшего бородой, словно Вий, до самых близоруких глаз за круглыми железными очками. Неблагонадёжный, без высшего образования, без профессии и положения в обществе, без накоплений и видов на будущее, 38-летний Потанин не мог считаться завидным женихом. Скорее, безнадёжным неудачником. Тем не менее, она его выбрала.
.
Тридцатилетняя Александра была для своего времени старой девой. Владимир Обручев, биограф Потанина, поясняет, что «по обычаю русского духовенства она, после смерти своего отца, считалась «невестой с местом», то есть место священника в приходе, которое занимал её отец, могло быть занято только лицом, которое женится на дочери. Такое грубое принуждение возмутило Александру, и она упросила своего брата Валериана, уже бывшего священником, занять место отца, а сама осталась жить у него и открыла домашнюю школу».
.
«Так уцелела свобода сердца Александры Викторовны, которой она так счастливо в своё время воспользовалась, сделавшись подругой жизни Григория Николаевича Потанина», — радовался брат Валериан, который после ссылки образумился и сделал церковную карьеру, но до конца жизни испытывал пиетет перед Потаниным и его донкихотским подвигом во имя Сибири.
.
Григорий и Александра поженились в январе 1874 года, за несколько месяцев до окончания потанинской ссылки. Их брак был очень современным, в духе «Что делать?» или «Отцы и дети», научно-полевой роман, в котором не оставалось места для пелёнок и пошлого быта. Вместо того чтобы рожать детей провинциальному батюшке и всю жизнь вышивать салфетки, Александра вместе с мужем ночевала в палатке на высоте трёх тысяч метров над уровнем моря, растапливала по утрам снег, чтобы сварить чай, лазала по скалам, делала зарисовки растений и животных, фотографировала странствующих торговцев и нищенствующих монахов, питалась экзотической малосъедобной пищей:
.
«Есть приходилось палочками, ложек здесь не подали. Редкостей, вроде трепангов, сепий, жабр акулы и тому подобных вещей, к моему великому удовольствию, не было».
.
А также описывала леденящие кровь экзотические традиции восточных народов:
.
«…в Китае существует обычай детоубийства; объясняется это, конечно, трудностью добывать пропитание, и особенно сильно развивается этот обычай в местах густонаселённых. Говорят, что это делается обыкновенно повивальной бабкой; она при рождении ребёнка, которого родители не желают оставить в живых, льёт на него холодную воду до тех пор, пока ребёнок не задохнётся. Убивают обыкновенно девочек. Около города по ночам часто слышен вой волков. Миссионер Кейла говорил, что волки приходят подбирать выброшенные трупы детей». А. В. Потанина «О китайской женщине», Русское богатство, СПб, 1887.
.
В заметках Александры Викторовны чувствуется её происхождение из семьи священника. Все христианские миссионеры на Востоке дружно приходили в ужас от туземных обычаев и уничтожали целые народы, обращая их в «правильную веру». Потанин подшучивал над упорством жены соблюдать православные посты и праздники во время экспедиции по Тибетскому плато.
.
«В Потанине-этнографе христианству сопротивлялся ламаизм, тенгрианство, шаманизм; Потанин-естествовед склонялся к пантеизму», — пишет Николай Бренников, томский историк.
.
Путешествуя по Центральной Азии, Григорий Николаевич встречал немало сверхъестественного, но всегда относился к чудесам с добродушным юмором учёного. В одном алтайском селении он решил испытать способности местного шамана (кама) и велел ему спросить духов, скоро ли прибудут из Омска остальные члены экспедиции.
.
«Приступая к своему камланью, кам прежде всего попросил духов не сердиться, потому что он призывает их не из своей прихоти, что он человек подначальный, подданный, что русский чиновник требует от него показать ему, как алтайские шаманы камлают, и что только страх ослушаться чиновника заставляет его беспокоить духов».
.
Хотя результаты не имели практического смысла, Потанин и его спутники не жалели плиток чая, которые шаманы традиционно принимали в качестве гонорара за сеансы общения с духами. Со временем Потанин популяризировал камлания среди сибирской образованной публики, устраивая «гастроли» алтайских шаманов в Томске. Это он придумал называть Алтай «сибирской Швейцарией» и старался всячески знакомить европейцев с туземной культурой, а туземцев просвещать на европейский манер.
.
К началу ХХ века алтайские деревни становятся модными курортами Томской губернии. Чахоточные едут сюда дышать освежающим горным воздухом, из-за чего получают прозвище «воздушники». Нервнобольных называют «кумысниками», потому что они верят в целительную силу этого лошадиного продукта и пьют его вёдрами. На досуге туристы интересуются шаманизмом и записывают фольклор.
.
«Анос превратился в какой-то Гейдельберг или Гёттинген… — с гордостью сообщал Потанин в одном из писем. — Здесь вы видите даму с финским ножом на поясе для рытья растений, с берестяной коробкой на бедре для выкопанных растений; или выходит из села джентльмен с мальчиком, идущий в лес отыскивать личинки и бабочки…».
.
«Не уклонюсь от истины, если скажу, что Пржевальский относился к туземцам внутренней Азии подозрительно, Певцов [исследователь пустыни Гоби и Монгольского Алтая] — снисходительно, а Потанин — любовно…», — сообщает Владимир Обручев, сопровождавший Потанина в его экспедиции по Центральной Азии.
.
Ни одна северная нация не может обойтись без романтической мечты о прекрасной южной стране. «Поэзия Пушкина и Лермонтова заставила русских людей мечтать о жаркой долине Дагестана, о башне царицы Тамары, о Бахчисарайском фонтане. Когда я очутился в Заилийском крае, я почувствовал, что он имеет такие же права на внимание северных поэтов, как Италия, Кавказ и Крым», — писал Потанин.
.
Он говорил, что, несмотря на свою любовь к Сибири, порой изменяет ей с Монголией и Китаем. 20 лет он путешествовал по этим странам в сопровождении Александры Викторовны и был совершенно счастлив, пока она не умерла скоропостижно в их четвёртой совместной экспедиции, направлявшейся вглубь Тибета. Она завещала похоронить себя в России. Её воля была исполнена, если считать Россией приграничный город Кяхта, где находится могила Александры Потаниной.
.
Эпилог
.
После смерти жены Потанин совершил ещё одну экспедицию в Китай и закончил эту главу своей биографии, переселившись из Петербурга в Сибирь.
.
В 1902 году он окончательно обосновался в Томске. Город неузнаваемо изменился за полвека. Теперь здесь был университет, Технологический институт, медицинские клиники, ботанический сад, частные газеты, книжные магазины, железная дорога, телефонная станция, уличное освещение и каменный театр…
.
Город уверенно примерял на себя роль культурной столицы Сибири. В Томске до сих пор спорят, кто придумал называть его «Сибирскими Афинами». Многие считают, что это был Потанин.
.
В 1909 году сибирский писатель Георгий Гребенщиков совершил обязательное для всякого российского интеллигента паломничество в Ясную Поляну к Льву Толстому, после чего сделал для себя удивительное открытие — в Томске живёт человек такого же духовного масштаба, но при этом более цельный как личность.
.
«Преклоняясь перед величавой фигурой Толстого, я не находил в нём той неподдельной простоты, какими обладает скромный, по сравнению с Толстым, сибирский дедушка. Все начинающие литераторы, поэты, художники, студенты и курсистки, учителя и учительницы, тянувшиеся к нему, как растенья к солнцу, чувствовали в нём… старшего, хорошего, простого, доброго товарища, с которым дерзали даже спорить и шутить и который и сам всех баловал своими шутками и рассказами о смешном, а главное — сказками о Востоке», — написал Гребенщиков в статье «Большой сибирский дедушка».
.
Потанин в то время действительно занимался обработкой и подготовкой для печати сказок народов Сибири, однако дедушкой себя вовсе не чувствовал. «Вверяю государственной почте мои интимные листки; государство доставит Вам мои горячие длинные поцелуи. Влюблённый не только в вас, но и в ваш ботинок», — писал он барнаульской поэтессе Марии Васильевой, на которой после десятилетней любовной переписки женился в 1911 году. Процесс канонизации шёл помимо его воли и желания. В 1915 году 80-летие Потанина отмечали по всей Сибири. Во многих сибирских городах газеты посвятили ему специальные выпуски, городские думы объявили о переименовании улиц в его честь. Омская дума назвала его «первым гражданином Сибири», бурятские представители — «идейным отцом областной интеллигенции». Были изданы брошюры, юбилейные сборники, переизданы труды Потанина; поступило более 500 адресов и сотни писем, среди поздравителей — Горький, Шишков, Короленко.
.
Главным событием юбилея стало торжественное заседание в Томске с участием профессоров и общественных деятелей. Потанина славили как человека, «открывшего миру духовную и экономическую мощь страны изгнания».
.
В ответном слове юбиляр говорил о том, что «необходимо пробудить провинцию к деятельности. Необходимо помочь расчленению территории на области, расчленить и государственные финансы — разделить их на областные».
.
Ещё через два года, революционной осенью 1917-го, собравшаяся в Томском университете Сибирская областная дума объявила Григория Потанина своим почётным председателем. Формально он был Президентом автономной Сибирской республики. «С Сибирью — смутно, слухи, что она отложилась, что какое-то там Правительство с Потаниным во главе», — записывала в конце декабря 1917 года в своём дневнике поэтесса Зинаида Гиппиус.
.
На короткое время провинция пробудилась к деятельности, как призывал её Потанин. В 1918 году Гражданская война в России могла стать антиколониальной, поскольку велась региональными правительствами против центральной власти, узурпированной большевиками. Но этого не случилось, потому что белые генералы бредили призраком единой России. Через два года Ленин и Троцкий заново сшили империю под новым брендом РСФСР.
.
Советская власть, до установления которой довелось дожить Григорию Николаевичу, организовала «президенту Сибири» торжественные похороны летом 1920 года.
.
Газета «Знамя революции» проводила «сибирского дедушку» некрологом, в котором, заклеймив его за участие в создании сибирской государственности, сквозь зубы признала его былые заслуги.
.
«Вчера утром умер Гр. Н. Потанин. Он был в стане наших политических врагов. Наёмники и прихвостни буржуазии сумели воспользоваться им в качестве орудия против рабочих и крестьян. Когда в октябре 1917 г. рабочие подняли знамя освобождения трудящихся масс от ига буржуазии; когда провозглашена была власть советов, эсеровские круги выставили его в качестве главы правительства автономной Сибири… Как общественный деятель, Потанин может лишь вызвать чувство отвращения, негодования рабочих и крестьян. Он явился орудием в руках белогвардейской своры. И мы говорим о нём не как об общественном деятеле, а как об учёном, исследователе и путешественнике…. И теперь, когда мы получили известие о его смерти, мы отбрасываем прочь тот вред, который он принёс рабочему классу. Мы говорим только — рабочий класс умеет оценивать вред, который ему приносят его враги, и этого вреда он никогда никому не может простить, и, в то же время, рабочий класс, строящий новую светлую социалистическую жизнь, не может обойти молчанием пользы, которую трудящимся массам, человечеству кто-либо принёс».








Поделиться303-10-2025 17:18:20
Григо́рий Никола́евич Пота́нин (21 сентября [3 октября] 1835—21 сентября (3 октября) 1835, станица Ямышевская Семипалатинской области – 30 июня 1920, Томск.
.
- Лидер и один из главных теоретиков сибирского областничества,
- выдающийся путешественник,
- географ,
- этнограф,
- ботаник,
- специалист по восточному эпосу,
- почетный гражданин Сибири.
.
Родился в семье потомственного офицера Сибирского казачьего войска Н.И. Потанина.
.
В 1846 г. поступил в Сибирский кадетский корпус (Омск), в котором подружился с Ч. Валихановым.
Заметное влияние па формирование мировоззрения юного Потанина оказали преподаватели корпуса И.В. Ждан-Пушкин, Н.Ф. Костылецкий и Г.В. Гонсевский.
.
После окончания корпуса в 1852 г. в чине хорунжего служил в Семипалатинске.
.
В конце 1853 г. в составе 8-го казачьего полка Потанин участвовал в основании города Верного (ныне Алматы). В 1856 г. был переведен в Войсковое правление (Омск).
.
Находясь на военной службе, Григорий Николаевич занялся изучением местного края, работал в архивах.
Постоянно бывая в семье Капустиных, познакомился с петрашевцем С.Ф. Дуровым и известным путешественником П.П. Семеновым (впоследствии Семенов-Тян-Шанский).
Последний убедил Потанина в необходимости продолжения образования и помог ему освободиться от военной службы.
.
Весной 1858 г. Потанин вышел в отставку по болезни в чине сотника.
В поисках денег для поездки на учебу в петербургский университет был вынужден обратиться к родственникам, жившим в Томске.
В Томске Потанин познакомился со ссыльным М.А. Бакуниным, известным идеологом демократического федерализма.
В рекомендательном письме Бакунина своим сестрам с просьбой о помощи «сибирскому Ломоносову» содержится прекрасный портрет молодого Потанина:
.
«Он – человек дикий, наивный, иногда странный и еще очень юный, но одарен самостоятельным, хотя и не развитым умом, любовью к правде, доходящей иногда до непристойного донкихотства, – вообще он не успел еще жить в свете, вследствие чего говорит и делает странные дикости, но все это со временем оботрется. Главное, у него есть ум и сердце. Он все отдаст отцу, который со своей стороны не держит его при себе, а желает только, чтоб он сделался человеком. Потанин так горд, что ни за что в мире не хотел бы жить за счет другого. В нем три качества, редкие между нами, русскими: упорное постоянство, любовь к труду и способность неутомимо работать и, наконец, полное равнодушие ко всему, что называется удобствами и наслаждениями материальной жизни».
.
В марте 1859 г. Потанин приехал в Петербург и поступил вольнослушателем естественно-исторического отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.
.
Здесь, в 1860 г., он познакомился с Н.М. Ядринцевым, вместе с которым в том же году организовал первое в столице сибирское землячество, занимавшееся изучением Сибири.
.
«Три года, проведенные мною и Ядринцевым в Петербурге, были, может быть, самые важные в нашей жизни, это были годы нашего политического воспитания. В эти годы определилась наша индивидуальность, было указано особое место в общественной деятельности», – вспоминал об этом времени Потанин. В Петербурге друзьями были намечены главные сибирские вопросы: отмена уголовной ссылки в Сибирь; предоставление краю экономической и политической автономии; открытие сибирского университета для формирования местной интеллигенции.
В 1859-1860 гг. в журнале «Русское слово» Потанин опубликовал несколько работ о Сибири: «Полгода в Алтае», «Отрывок из истории провинциального кадетского корпуса», «Заметки о Западной Сибири». В Лондоне, в герценовском «Колоколе», была напечатана статья Потанина «К характеристике Сибири».
.
Во время обучения на 3-м курсе университета Григорий Николаевич принял участие в студенческих волнениях 1861 г.
.
В октябре был заключен в Петропавловскую крепость по обвинению «в крайней дерзости против полиции, в возбуждении толпы к неповиновению и в подстрекательстве к беспорядкам».
.
Освобожден 7 декабря 1861 г. и на год был выслан на родину под надзор полиции.
.
Летом 1862 г., совершая научную экскурсию на Урал, Потанин выполнил задание Центрального комитета партии «Земля и воля» по организации там ее отдела. По возвращении в Омск поступил младшим переводчиком в главное управление Западной Сибири, принимал активное участие в обсуждении нового положения о казачьем войске.
.
В том же году стал членом Императорского Русского Географического общества.
.
В составе экспедиции астронома К.В. Струве в 1863 г. он совершил в качестве переводчика и натуралиста путешествие к устью реки Кокбекты, впадающей в озеро Зайсан, в следующем году – к подножию Тарбагатая.
.
В октябре 1864 г. Потанин был прикомандирован к Томскому губернскому совету по крестьянским инородческим делам. С 1865 г. принимал активное участие в издании неофициальной части «Томских губернских ведомостей».
.
27 мая 1865 г. Потанин был арестован вместе с Н.М. Ядринцевым за распространение радикальных прокламаций «Патриотам Сибири» и «Сибирским патриотам» и отправлен и Омск в распоряжение следственной комиссии. Три года находился под следствием сначала в тюрьме, а затем на гауптвахте.
В это время Потанину удалось добиться разрешения работать с материалами местных архивов и издать книгу «Материалы для истории Сибири» (М., 1868).
.
Как «злоумышленник», 20 февраля 1868 г. был приговорен Сенатом к 15 годам каторжных работ.
.
19 апреля 1868 г. приговор Потанину был смягчен и заменен лишением всех прав состояния и ссылкой в каторжные работы на 5 лет в одну из крепостей Финляндии с последующим поселением в одной из северо-восточных губерний Европейской части Российской Империи.
.
15 мая 1868 г. на плацу Омской крепости над Потаниным был совершен обряд гражданской казни.
.
В 1868-1871 гг. Григорий Николаевич находился на каторжных работах в Свеаборгской крепости (Финляндия), в исправительной роте.
.
В декабре 1871 г. он был освобожден и в 1872 г. отправлен на жительство сначала в Тотьму, а потом в Никольск Вологодской губернии.
В ссылке вместе с Ядринцевым сотрудничал в казанской «Волжско-Камской газете», на страницах которой появляются их многочисленные статьи по областнической тематике.
.
24 июля 1874 г. по ходатайству П.П. Семенова Потанин был полностью помилован с возвращением всех прав и разрешением проживать в любом городе России и с 1876 по 1902 г. жил в Петербурге.
.
Во второй половине 70-х-начале 90-х гг. осуществил экспедиции в Среднюю Азию, Тибет, Монголию и Китай, став всемирно известным путешественником, этнографом, фольклористом. Большую помощь в путешествиях ему оказывала жена и помощница в исследовательской работе А.В. Потанина.
.
В своих изысканиях Потанин исходил из идеи, выработанной областниками:
.
развитие мировой культуры состоит в синтезе азиатских и европейских форм и возрождении на этой основе народов Востока, посредническую же роль в этом процессе должна сыграть просвещенная Сибирь, ее народы. Этим проникнуты труды Потанина «Очерки Северо-Западной Монголии» (СПб., 1881-1883), «Тангуто-Тибетские окраины Китая и Центральная Монголия» (СПб., 1893).
.
За свои путешествия в 1886 г. Потанин был награжден Константиновской золотой медалью Императорского Русского Географического общества, а в 1887 г. ему была назначена пожизненная пенсия.
.
С 1893 г. Григорий Николаевич занимался обработкой собранных материалов по фольклору. Полученные результаты он обнародовал в своих работах:
- «Восточные основы русского былинного эпоса» (журн. «Вестник Европы», 1896, т. 2) и
- «Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе» (М., 1899).
.
Для изучения европейского эпоса Потанин побывал в Париже, знакомясь с редкими изданиями и рукописями.
В результате он создал оригинальную теорию о существовании в глубокой древности в Центральной Азии широко распространенного культа солнца, воплотившегося в яркий грандиозный эпос, разнесенный впоследствии переселявшимися народами по всему миру.
.
После смерти Н.М. Ядринцева в 1894 г. Потанин возглавил сибирское областническое движение.
.
С сентября 1902 г. и до конца своих дней Григорий Николаевич жил в Томске.
.
В 1903 г. он организовал и в течение полутора лет вел воскресное иллюстрированное приложение к газете «Сибирская жизнь».
.
В начале 1905 г., воспользовавшись рескриптом Николая II о возможности введения земства в Сибири, Потанин взял в свои руки руководство земской кампанией. Ему удалось на время примирить представителей разных идейно-политических направлений – эсеров, либералов и др., создав «Проект основных положений Сибирского областного союза» и обсудив его на съезде Союза 28-29 августа 1905 г. в Томске.
.
В начале 1905 г. Потанин был арестован за активное участие в революционных событиях, но вскоре был освобожден.
.
В 1905 г. томичи торжественно отметили 70-летний юбилей Потанина. Совет Томского Технологического института на своем заседании 21 сентября 1905 г. избрал его почетным членом института, однако, в связи с отрицательной характеристикой Департамента полиции МВД Министерство народного просвещения не утвердило избрание, оно было утверждено только 7 апреля 1917 г.
.
В 1907 г. в работе «Областническая тенденция в Сибири» он изложил историю сибирского областнического движения и разработал его теорию.
.
В межреволюционный период Потанин занимался культурно-просветительской деятельностью:
- был одним из учредителей Высших Женских курсов в Томске,
- председателем «Общества попечения о народном образовании в Томске»,
- членом совета Общества изучения Сибири, создателем Томского литературно-драматического общества
- и др.
.
Празднование 80-летия Потанина в 1915 г. превратилось в грандиозный всесибирский праздник. В здании Общественного собрания (ныне Дом офицеров) не хватило места не только желающим, но даже приглашенным, толпы стояли на улице. 15 сентября 1915 г. Томская городская дума приняла решение избрать Потанина почетным гражданином города. Такое же решение было принято в Омске и Красноярске.
.
Революционные события 1917 г. вновь вернули Потанина к активной политической жизни. Приветствуя свержение самодержавия, он глубоко чувствовал опасность, которая исходила от рвущихся к власти большевиков. 18 июля 1917 г. «Сибирская жизнь» опубликовала его статью «Областничество и диктатура пролетариата», в которой Потанин заявил о своей позиции:
«Строй, который нам готовят большевики, не на тех ли началах построен, как только что низвергнутый монархический строй? Если бы проекты Ленина осуществились, русская жизнь снова очутилась бы в железных тисках, в ней не нашлось бы места ни самостоятельности отдельных личностей, ни для самостоятельности общественных организаций. Опять мы бы начали строить жизнь своего отечества, а кто-то другой думал за нас, сочинял для нас законы и опекал бы нашу жизнь».
.
Слова, ставшие пророческими...
.
В декабре 1917 г. Чрезвычайным Сибирским областным съездом, решившим не признавать советскую власть, Потанин был избран председателем Временного Сибирского областного совета.
.
В начале 1918 г. отказался от этого поста. 26 января 1918 г. большевики разогнали Сибирский областной совет, подвергнув аресту всех его членов.
.
Временным Сибирским правительством 5 июля 1918 года Потанину было присвоено звание Почетного гражданина Сибири. Авторитет Потанина был настолько велик, что сначала Временное Сибирское правительство летом 1918 г., а затем Сибревком в декабре 1919 г. назначали ему персональные пенсии.
.
Григорий Николаевич скончался в клинике Томского университета и был похоронен на Преображенском кладбище.
.
В 1956 г. его прах по просьбе Академии наук СССР был перенесен в Университетскую рощу. В 1958 г. на могиле Потанина был установлен памятник работы скульптора С.И. Данилина. На рубеже 50-60-х годов на карте Томска появилась улица Потанина.
.
Однако настоящее обретение духовного и научного наследия Потанина только начинается.
.
К 160-летию со дня рождения великого сибиряка в 1990 г. в Томске появился еще один памятник Потанину – деревянная скульптура, выполненная Л.А. Усовым.
Она была установлена в Театральном сквере.
29 июня того же года на доме по ул. Белинского, 80 была открыта мемориальная доска, посвященная Потанину.
.
«Здесь, в доме Ф.К. Зобнина, в 1919 году жил Григорий Николаевич Потанин» – гласит текст доски. В 1990 и 1995 гг. в Томском государственном университете проходили «Потанинские чтения».
Появились переиздания трудов Потанина по областничеству, публикуются архивные материалы.
.
Никиенко О.Г., зав. ИКО ТОУНБ им. А.С. Пушкина

Поделиться403-10-2025 17:22:15
Наверное это те немногие улицы, которые сохранили свой достойнейшие имена до наших дней - Потанинская и Ялринцевская. Больше 120 лет.
.
"В Российском государственном историческом архиве (Санкт-Петербург) обнаружен любопытный документ, составленный осенью 1898 г., — реестр жителей, желающих заключить договор аренды на 36 лет на занимаемую жилую усадьбу в Ново-Николаевске. В этом списке, кроме номеров квартала и участка, указаны улицы: Гудимовская, Болдыревская, Асинкритовская, Бийская, Барнаульская, Стевенская, Ядринцевская, Потанинская — в Центральной части; Михайловская, Вокзальная, Томская, Красноярская — в Вокзальной части"©Н.Минина.



Отредактировано alippa (03-10-2025 17:27:56)